Архангельск, дорога жизни

«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда…»
Архангелогородцы называют переправу через Северную Двину «дорогой жизни». У людей старшего поколения это словосочетание вызывает ассоциацию с войной – недаром память подсказывает строки из «Василия Тёркина» Твардовского: «Переправа, переправа…» Но для тысяч нынешних архангелогородцев ледовая переправа – это в прямом смысле слова дорога, с которой связаны все самые важные вещи в жизни. Потому что иначе, как по льду, зимой в город не добраться: ни к врачу попасть, ни уехать куда, ни в кино сходить.
Архангельск стоит на берегу Северной Двины недалеко от ее впадения в Белое море. В этом месте река расходится на множество рукавов, образующих острова. Большинство островов обитаемые, на них живет несколько тысяч архангелогородцев. По переписи населения они в полном смысле слова горожане, вот только их образ жизни мало напоминает то, как живут люди в современных городах.
Чтобы добраться до города от ближайшего острова, Кегострова, надо проделать путь в 2 километра по льду. Примерно до середины пути можно доехать на каракате. Это такое местное изобретение, почище «теслы».
Представляет собой что-то вроде трехколесного мотоцикла с гигантскими колесами, обутыми в полуспущенные камеры. Первые каракаты, как говорят, делали с мотором от бензопилы «Дружба». Особой мощности и не требуется, потому что каракат очень легкий, а скорость может развивать приличную, до 30 км в час.
Быстрее ехать себе дороже: лед неровный, трясет на нем посильнее, чем в моторной лодке, несущейся по волнам. Дополнительное преимущество караката перед другими видами транспорта: если повозка угодит в полынью, она не тонет – ее держат на плаву скаты. Так что есть шанс дождаться эмчеесников, которые придут на помощь. Обычная машина такого важного преимущества лишена: сразу идет ко дну — и поминай, как звали. Нередкая история, судя по местным газетам.
Приблизительно на полпути от Кегострова до материка обладатели каракатов паркуют свои повозки и дальше продолжают марш на Архангельск в пешем строю.
И вот тут на их пути встает препятствие: широкая полоса шуги, выпирающей из бурой воды. Шуга – это колотый лед, образующийся после прохождения ледокола. А грязный цвет воды обязан торфяникам, которые размывает Северная Двина на своем пути в Белое море. Единственный способ преодолеть эту водно-ледяную преграду — по деревянным мосткам, что перекинуты по колотому льду.
Вы спросите, а что происходит, когда идет ледокол? В Питере, чтобы пропустить корабли по Неве, разводят мосты. В Архангельске всякий раз приходится разбирать переправу. В деревянных мостках проделаны дырки, благодаря которым их можно подцепить багром и затем оттащить на берег.
Миша выкроил время в командировке, чтобы часок постоять на переправе и заснять, как все это происходит. Местный фотограф и краевед Сергей Яковлев давал пояснения.
Но даже Сергей, который возит экскурсии по Архангельску и области, не знает, как правильно назвать мужиков, что собирают и разбирают переправу. Паромщики? Но какие паромы зимой! Багорщики?
У мужиков есть рации, по которым они узнают о приближении ледового каравана (в снегопад его издалека не увидать). И тогда «багорщик» кричит: «Торопитесь!» И люди с обоих берегов торопятся к переправе. Иначе придется ждать, пока пройдет караван и переправу восстановят.
Что же за люди пользуются переправой? Само собой, рыбаки, любители подледного лова. В феврале на Северной Двине хорошо клюет корюшка.
А так – публика самая разная. Вот пара школьников с ранцами за плечами. Эти ходили на дополнительные занятия в кружок на Большую землю. Дядьки, отчаянно матерясь, перевозят мешки с комбикормом на допотопных деревянных салазках. А вот пожилой мужчина несет внушительных размеров плоский телевизор Full HD. Каждому, как говорится, по потребностям (ну, и по возможностям, натурально).
Караван, которого дожидались в этот раз, состоял всего из двух судов: танкера «Мыс Алмазный» и буксира, который подталкивал танкер сзади. После предыдущей проводки лед еще толком не схватился, так что нужды в ледоколе не было. А так несколько ледоколов стоят поблизости на случай нужды.
Самое интересное – это то, с какой скоростью восстанавливается ледовая переправа после прохода судов. Для этого буксир возвращается задом и своими винтами гонит шугу обратно, чтобы она спрессовалась. После чего «багорщики» вновь настилают деревянные мостки, подпрыгивая на них, чтобы ровно сели на колотый лед.
За это время по обоим берегам выстраивается очередь горожан. Тем, кому на острова, — с покупками. В обратную сторону – с пустыми руками.
Такая «дорога жизни».
комментариев 6
Комментарии закрыты
Метки























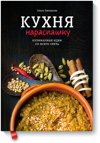









Суровые места!
С этим не поспоришь))
Я родилась в Сибири, но прожила там всего пару лет и выросла на Дальнем Востоке. Но все мои предки родились, выросли и умерли в Сибири. Каждый раз читая про суровые северные места или просматривая видео я прямо кожей ощущаю ту местность. Как будто что-то родное. Что это ? Генетическая память моих сибирских предков ? И тянет туда почувствовать запах этого мороза и ощутить на коже колючий морозный ветер.
Как говорят, что пройдёт, то станет мило. Но я понимаю, о чем Вы, Наталья. Это ощущение настоящего мороза — особенно нынешней гнилой московской зимой.
жизнь сильных духом людей
…В XXI веке.